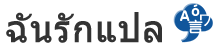- ข้อความ
- ประวัติศาสตร์
ความเป็นไปได้ที่จะใช้ในประเทศไทย Co
ความเป็นไปได้ที่จะใช้ในประเทศไทย Concept
0/5000
11<br>Я предлагаю вниманию читателя нечто, как принято<br>считать, скоропортящееся, а именно концепцию, пре-<br>тендующую на истинность. Мной движет романтиче-<br>ская, модернистская или, если хотите, экзистенциальная<br>стратегия, которую я бы назвал «этикой предельности».<br>Речь пойдет и об ответственности — ответственности<br>перед лицом неустранимой парадоксальности и боли<br>человеческого существования. При этом я хочу предло-<br>жить текст, насколько это возможно, научный. Научность<br>эта, как мне кажется, будет смягчаться (или усиливать-<br>ся) экзистенциальной интонацией. Мое рассуждение<br>претендует на право иметь философскую, точнее, философ-<br>ствующую направленность. При этом философия как<br>универсальная дисциплина представляется мне, как ни<br>парадоксально, производной от лингвистических осно-<br>ваний, структуру которых я попытаюсь прояснить.<br>Понятие катастрофы заимствовано мной как из об-<br>щего словоупотребления, так и из математической тео-<br>рии катастроф (теории особенностей), где ключевыми<br>фигурами являются Р. Том, а также слегка иронизирую-<br>щий над ним В. Арнольд. Это позволяет моему рассужде-<br>нию быть несколько более строгим, чем это может пока-<br>заться на первый взгляд.<br>Заглавие книги подчеркивает тот факт, что лингвис-<br>тика непосредственно встроена в свой предмет и являет-<br>ся разворачиванием одной из базовых функций языка —<br>К РАТКОЕ<br>НЕНАУЧНОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ<br>12<br>метаязыковой. Это значит, что с того времени, как линг-<br>вистика стала точной дисциплиной, с момента форму-<br>лирования законов фонологии в первой трети ХХ века,<br>ее можно считать теорией нового типа, теорией сразу<br>и строго «объективной», и внутренней по отношению<br>к своему предмету. Отсюда следует уникальность ста-<br>туса лингвистики, и особенно структурной, в ансамбле<br>наук о духе. Вокруг лингвистики и языка идет диалог,<br>начатый двести лет назад В. Гумбольдтом и с новой си-<br>лой продолженный столетие назад Ф. де Соссюром.<br>Крупнейшей фигурой для меня здесь является Эмиль<br>Бенвенист, как, впрочем, и для всего постструктураль-<br>ного движения, начиная с Р. Барта, заметившего: «Чи-<br>таем мы всех лингвистов, но любим Бенвениста». Важ-<br>ными для нас окажутся как «классик-авангардист»<br>Р. Якобсон, так и «романтик-маргинал» Г. Гийом. Диа-<br>лог с гипотезой универсальной грамматики Н. Хомско-<br>го и с ее радикальной дарвинистской интерпретацией<br>С. Пинкером будет виден невооруженным глазом. Свя-<br>зи с соссюровской семиологией, русской формальной<br>школой и семиотикой, с трудами Вяч. Вс. Иванова, в том<br>числе по асимметрии полушарий мозга, а также со<br>структурной антропологией Леви-Строса также совер-<br>шенно очевидны.<br>Немыслимо пройти мимо психоанализа. Лично на<br>меня оказал сильное влияние ранний Юнг («Либидо и<br>его метаморфозы»), но общие мотивы я обнаруживаю<br>как в классическом, так и в постъюнгианском психо-<br>анализе. Без Отто Ранка, Эриха Фромма и, конечно, Ла-<br>кана нам тоже не обойтись. По сути, предложенная чи-<br>тателю теория лингвистической катастрофы является<br>опытом экзистенциально-исторического психоанали -<br>за, так как речь будет идти в большо ...
การแปล กรุณารอสักครู่..


ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.
- Popular foods on Halloween
- talk about เรื่องทั่วไป เช่น
- Seance
- ศึกษาพื้นฐานของอุตุนิยมวิทยาการบิน เช่น
- religion
- Okay nice so let's move
- Koufman
- • Turnaround
- i think iknow why you were chosen
- เหมย
- 天魔两教大城. 天午用种力荣无店專 重的 唐教霞..
- Protective Mechanisms
- hold hands
- xiao main yang
- what does the L stand for?
- consistent
- constructivist
- Semen Exam
- สวัสดี ทำอะไรอยู่
- ฉันยินดีช่วยเธอเสมออยู่แล้ว
- statues
- ปรสิตที่ไม่ทำให้hostเกิดโรค
- มันทำท่าทางลักษณะ กวนประสาท!!
- ถามน้องแปป ซานไปเที่ยวภูเก็ตกับเรามั้ย